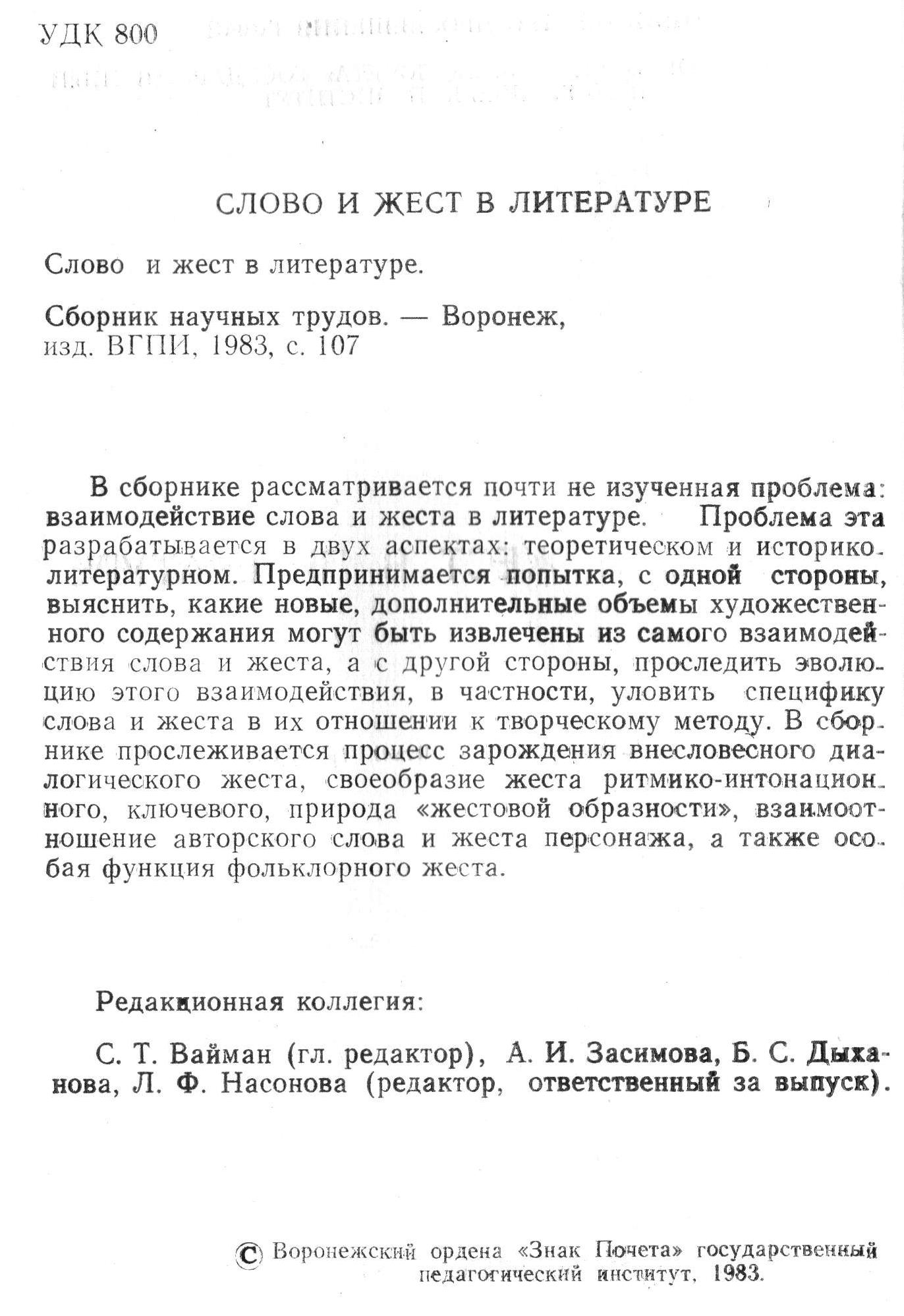
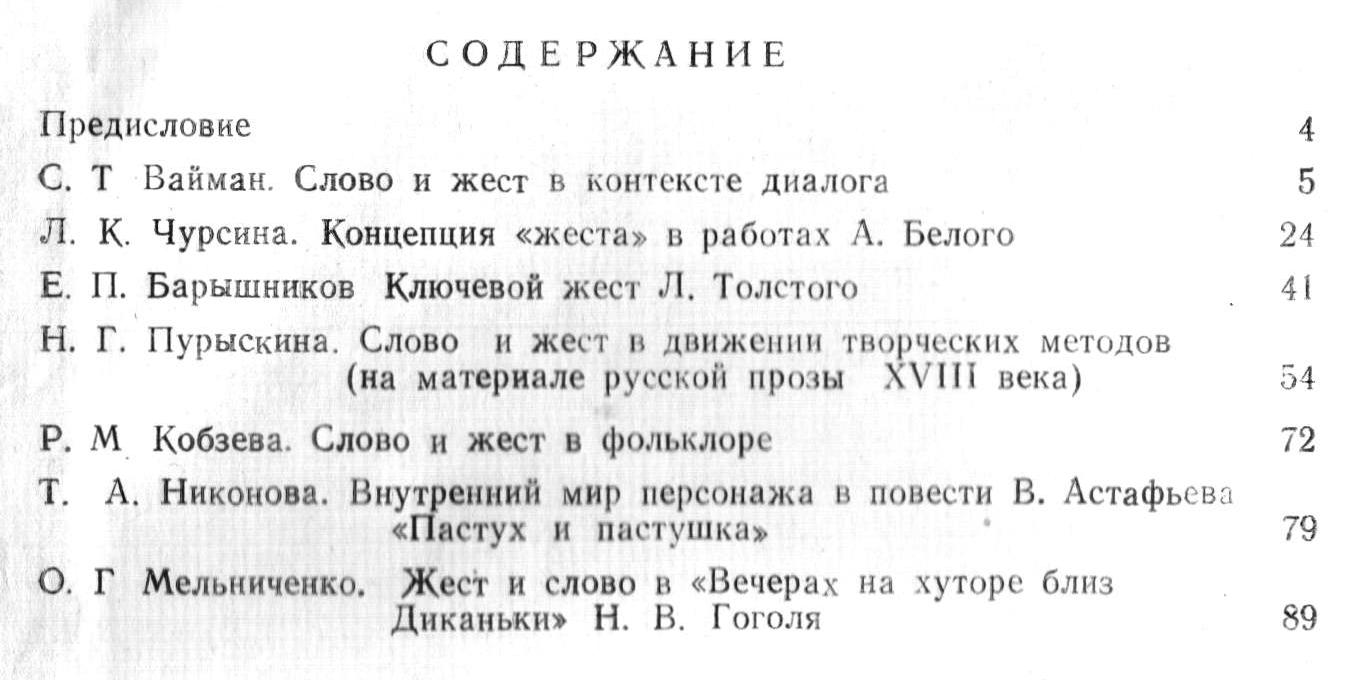
Е.П. Барышников |
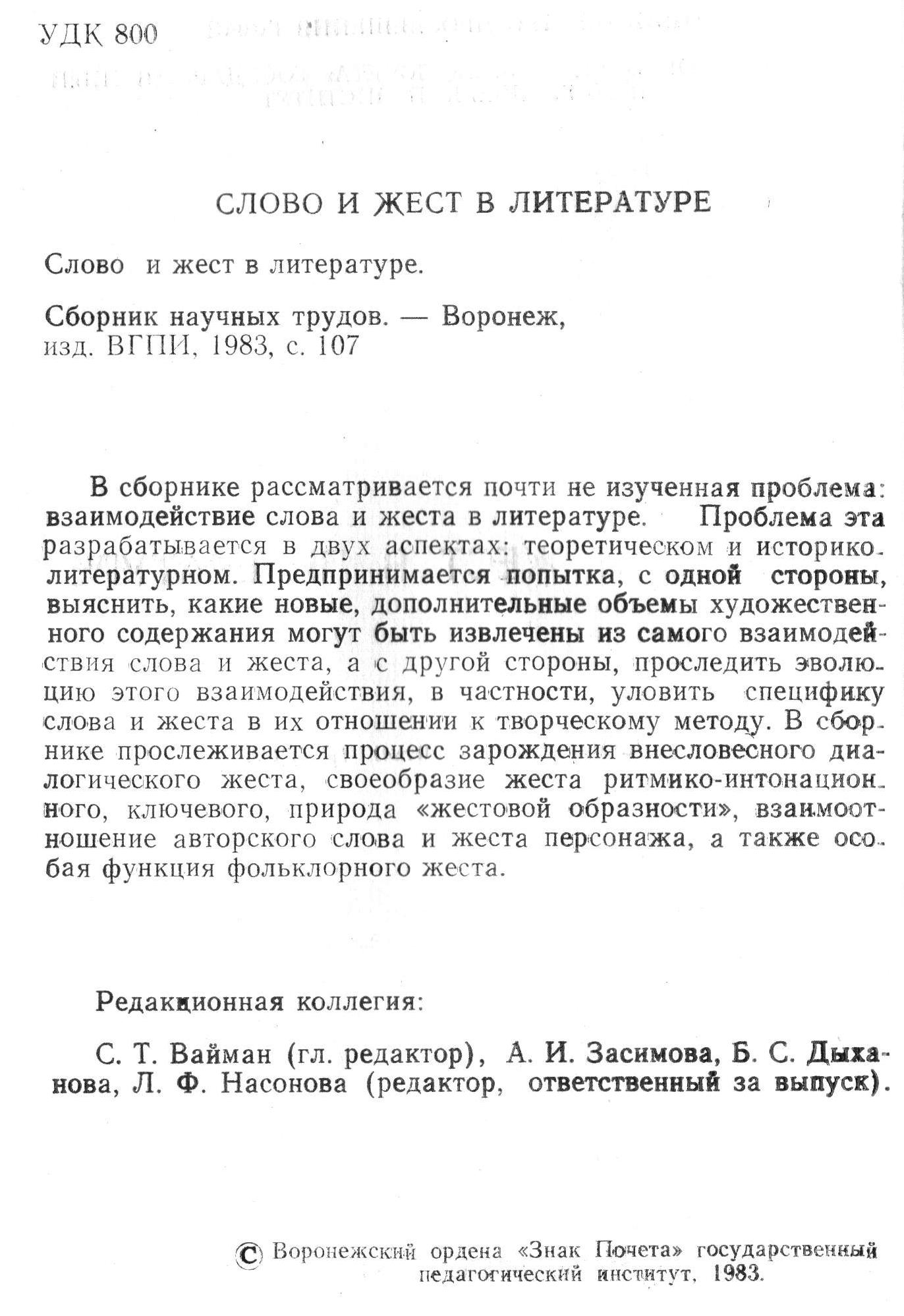
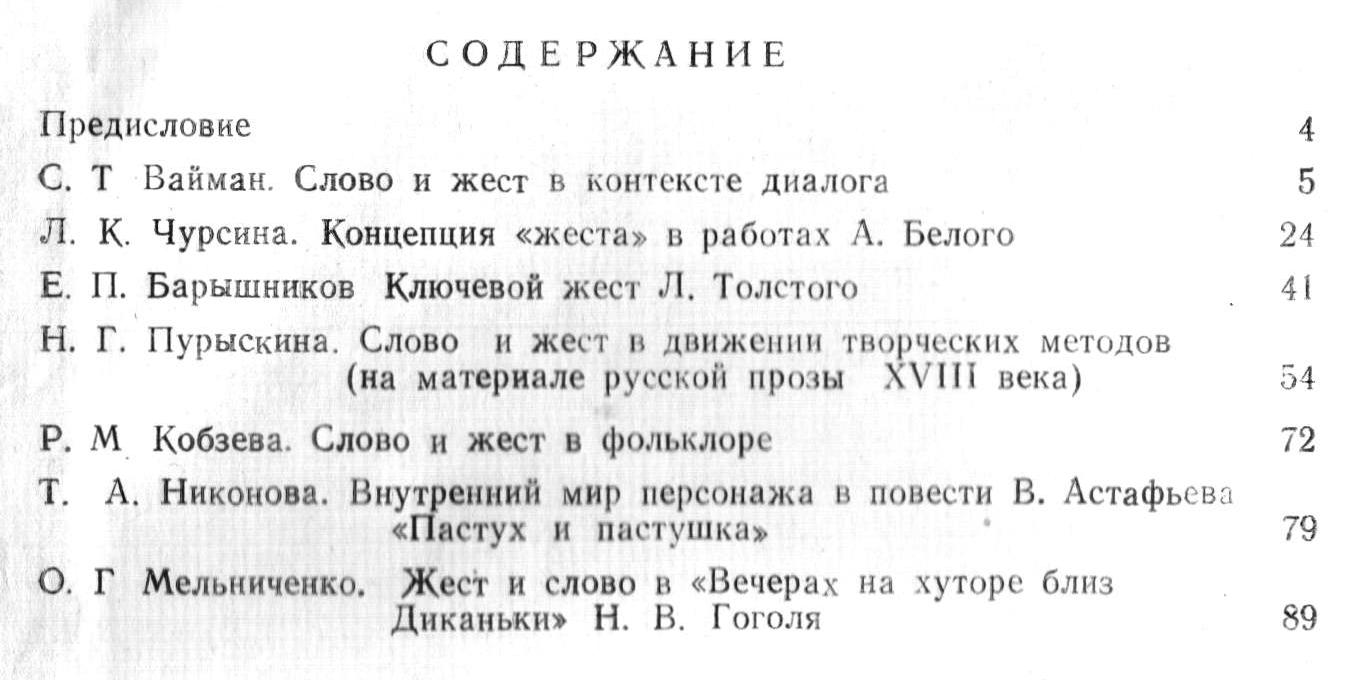
Е.П. Барышников |
|
Объясняя необычность художественной формы "Войны и мира", Толстой заметил: "Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в каком понимают этот род сочинений в Европе"1.
Вpяд ли можно сомневаться, что сказанное в полной мере относится и к тому факту, который в свое время озадачил читателей, - именно, к вторжению на страницы "Войны и мира авторской проповеди, зазвучавшей поверх образов в тяжеловесных философских и публицистических отступлениях. Это событие как бы провело черту по лицу произведении, оставив сойтись и вступить во взаимодействие два несговорчивых начала: проповедь и пластическое живописание словом. Пусть инерция восприятия сразу же подняла голос протеста, особенно в лице "европейского" романиста Флобера, "заговорившего о "падении" великого художника. Именно эта "аномалия" обнаружила одно из важнейших качеств поэтики Толстого, до сих пор еще недостаточно проясненное и осмысленное Оглядываясь на творческий путь писателя, нельзя не признать, что "портить" свои произведения он начал много раньше и отнюдь не закончил с "Войной и миром". Не может быть сомнений, что здесь мы сталкиваемся с какой-то "коренной потребностью, если угодно, с творческими жестами, идущими из глубины и задающими загадку уже самим фактом своего существования. Попробуем разгадать ее изнутри, путем вхождения в художественный мир писателя. Из каких глубин идет толстовская потребность совмещения литературы с проповедью? Имеем ли мы дело с первичными импульсами, интуитивными прозрениями, которые спонтанно, не спрашивая ничьего разрешения, возникают как неконтролируемые жесты сознания и подсознания, или речь должна идти о художественных качествах, позднее внедряемых автором по своему усмотрению? Достаточно хорошо известно, что жизнь образов начинается именно в лоне органически возникающих импульсов и "помыслов" (если прибегнуть к лексике средневековой аскетики). Сами по себе "помыслы" еще не создают замысла, для этого они должны определиться в рамках известной идейно-художественной концепции. Встреча первичных образов с вполне продуманными взглядами на жизнь - конкретный пункт зарождения замысла. В нем сохраняется органическое ядро саморазвитие которого автор не столько определяет, сколько чутко оберегает и поддерживает, в сочетании с моментам смысловой напряженности, на которых лежит явная печать претворяющей авторской инициативы. В задачу статьи входит выяснение того, насколько органичен принцип сопряжения проповеди и пластики. Чтобы возможно было это решить придется заглянуть "в даль" творческого процесса. Но через какой "магический кристалл"? Может быть, через смысловую мимику, творческое правило, по которому проповедь соединяется и взаимодействует с пластикой? Контуры этого правила мы постараемся нащупать с тем, чтобы можно было хотя бы отчасти заглянуть в систему порождающих его творческих жестов. В настоящей статье мы не будем рассматривать проблематику "немого языка жестов и взглядов Толстого", т. к. она достаточно полно освещена в специальной литературе2. Нас интересуют жесты Толстого, а не его героев. Конечно, такой подход делает понятие "жест" метафорическим и потому косвенным по отношению к главной теме сборника. Но косвенные отношения еще не значат "никакие отношения". Напротив, они выводят статью в ту смежную зону, где наука о литературе встречается с психологией и философией, проливая новый и, надо полагать, плодотворный свет на изучаемую проблему. Приступая к анализу смысловой мимики, прежде всего следует установить, с какого момента в творчестве Толстого зарождается напряжение между полюсами проповеди и пластики. Сделать это нетрудно, достаточно лишь обратиться к первому художественному опыту писателя, к незаконченному очерку "История вчерашнего дня" (1851). Уже здесь Толстой вынужден работать с наличной предпосылкой полярности. Этот очерк никак не назовешь рассказом или повестью по той простой причине, что в нем ни о чем не рассказывается и ни о чем не повествуется. Текст его составлен из проповеди (поучений) и картин, соединенных между собой почти без повествовательных скреп. Стоит только присмотреться к вступительному абзацу, который автор старался выдержать в духе галантного салонного разговора, ориентированного на Стерна, и все-таки не совладал с материалом и позволил ему вылиться в поучение, обращенное к читателю. Спохватившись, он признается: "С какой стороны ни посмотришь на душу человеческую, везде увидишь беспредельность, и начнутся спекуляции, ко-торым конца нет, из которых ничего не выходит и которых я боюсь. К делу" (1, 277). Имя опасности, подстерегавшей начинающего писателя, названо довольно точно: это "спекуляции", страсть к назойливым поучениям в духе литературы XVIII века. Но и переходя "к делу", т. е. к повествованию, автор немедленно сталкивается с новой трудностью, покамест для него непреодолимой. Он вдруг выходит из повествовательного времени, останавливает движение сюжета и, попросив прощения у читателя, предается собственно писательскому занятию - описанию: "Здесь прошу извинить, что я скажу, что было третьего дня; ведь пишут романисты целые истории о предыдущей генерации своих героев". Первая же литературная проба превращает толстовское произведение в поле антиномических противоречий. Образы оказываются в какой-то тайной связи с поучениями; целое половодье описаний сменяется "спекулятивными" назиданиями. Примерно так же работал Толстой и дальше, потому что через год вынужден был признаться в дневнике: "Писал письмо с Кавказа. Я увлекся сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере, понимаю необходимость и желаю найти ее" (46, 93). Его "смущает" дурная привычка к отступлениям": "несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него" (46, 82). Напротив, выработанная им в повести "Детство" "метода описания" получает высокую самооценку: "Надо каждое поэтическое чувство эпюзировать" (47,203), т. е. исчерпывать в духе пластического живописания. Теперь для Толстого даже "проза Пушкина стара - не слогом, - но манерой изложения. Теперь справедливо - в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то" (46, 188). В то же время, у Толстого зреет потребность "писать проповеди" (46, 55). Он возмущается: "Как могли мы до такой степени утратить понятие о единой цели литературы - нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас. А право, не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравоучения - цель его" (46, 214). Словом, в Толстом совершилось то, чего не знала еще реалистическая проза - соединение проповеди (поучения) с художественным описанием, в то время как для литературы просветительской был характерен иной союз: проповеди с повествованием. Впервые проповедь и пластика соединяются в какую-то невиданную прозаическую систему, в рамках которой Толстой и пытается себя осуществить. Не случайно именно в этих рамках созрели лучшие плоды таланта Толстого - диалектика и пластика души. Вот известный фрагмент из "Истории вчерашнего дня": "Не успел сказать, как уже стал раскаиваться, - то есть не весь я, а одна какая-то частица меня. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу..." (1, 281). Впервые в литературе XIX века проповедуется и одновременно изображается психическая жизнь человека как открытая структура, имеющая свой подвижной ландшафт, свои "частицы", представляющие различные стороны человеческого "я". Внутренний мир делается пластичным, т. е. пред-стающим читателю как подвижная панорама, в изображении которой, кажется, взаимодействуют между собой художник и психолог. На фоне предметно развертывающейся диалектики души постоянно звучит голос автора, зорко следящего за происходящим. Это не голос рассказчика, скорее, голос про-поведника. Автор "стоит где-то в стороне от всей картины, где-то высоко над всем совершающимся, в неподвижной позе пристального и то иронически улыбающегося, то сурово декламирующего наблюдателя"3. Ради выявления таких творческих возможностей не жаль было и урезать повествование, сведя его к минимуму осведомительных заявлений. Но как раз редукция повествовательного начала высвободила место для взаимодействия проповеди и пластики. В дальнейшем Толстой предпримет усилия двоякого рода: частично пойдет на усиление полярности (в рассказах "Севастополь в декабре месяце", "Севастополь в мае", "Два гусара", "Люцерн", "Декабристы", в 3-м и 4-м томах "Войны и мира), частично станет ее умерять широко вводимой стихией повествования. Начнется напряженная работа по освоению повествовательной техники, чему свидетельство дневниковая запись 1852 г.: "Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог" (46, 144). В "Детстве" (1852) повествование окрепнет настолько, что станет явственным неуклонное движение сюжета к исходу событий, еще совершенно неуловимое в "Истории вчерашнего дня". В своем пределе повествование, по-видимому, должно вобрать в себя стихию проповеди и тем снять поляризацию. В некоторых ранних вещах Толстого так и происходит. "Записки маркера", "Метель", "Альберт", "Семейное счастье", "Поликушка" совершенно избавляются от авторских вторжений, дух проповеди если и не уходит из них совсем, то, во всяком случае, замыкается в рамках повествования. Применительно к повести "Казаки" этот феномен весьма точно описан М. Гершензоном: "Рассказ Толстого необыкновенно драматичен и красочен, он увлекает и слепит яркостью, напряженностью, быстротою, - он страстен и беспокоен. Дело в том, что Толстой именно не рассказывает, а проповедует и проповедует тем более насильственно.., что сам далеко не уверен в правильности своей мысли... Это смятение своего духа Толстой непроизвольно облекал плотью конкретных явлений, событий внешних и внутренних: отсюда драматизм и яркость его повествования"4. В таких произведениях этого периода, как "Рубка леса", "Севастополь в августе 1855 года", "Три смерти" скрытая проповедь все же переходит в прямую, выводя наружу упрятанную полярность. Обратимся к последнему рассказу. В один из самых патетических моментов повествования ("лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание") вдруг раздается риторический вопрос: "Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?" (5, 63) - речь идет о словах читаемой вслух псалтыри. К кому адресован этот неожиданно прозвучавший авторский голос, в котором сошлись воедино ликующая надежда и пронзительный страх? Вряд ли мы ошибемся, предположив, что автор обратился прямо к читателю. Слона эти не вмещаются в непрерывную ткань повествования, они предполагают прерывность, выход авторского голоса в зону прямой коммуникации с читателем. В известном смысле весь рассказ - только предлог для этого непосредственного обращения. Недаром некоторые свои вещи Толстой любил называть "письмами", адресованными читающей публике. Притча "Три смерти", конечно, не относится к их числу, но и здесь финальный выход авторского голоса фактически перестраивает все повествование, заставляя видеть его под углом зрения последнего события. Повествование словно теряет самостоятельность и располагается по силовым линиям все определяющей полярности. После "Войны и мира" Толстой тяготеет к прозе, очищенной от авторских вмешательств. Но еще в "Анне Карениной" это удается не вполне. Зачин романа: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему" явно насыщен авторскими интонациями, которые необходимо возникают на перекрестке голосов верховного судии ("Мне отмщение, и аз воздам", - гласит эпиграф) и повествователя: "Все смешалось в доме Облонских". Через градацию голосов событиям романа указано место в общечеловеческой ситуации, созданной отнюдь не литературными интересами. С 80-х годов голос автора в прозе Толстого совсем замолкает именно потому, что он зазвучал на весь мир в публицистической форме, раскрывая людям истину нового нравственного учения. Освобожденная от связи с проповедью литературная форма бурно отторгает от себя принцип самодо-влеющей пластической описательности - "дребедени многословной" (61, 247) - и устремляется к новому качеству сгущенного повествования, ориентированного на поиски первооснов жизни. Вниманием Толстого завладевает притча, учительское повествование, образцы которого он находит в Библии и средневековой литературе, трактате "Что такое искусство?" (1898) натиск самоценную описательность во имя повествовательной строгости приобретает наступательный характер. Вспомним библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, Толстой подчеркивает, что в ней не встретишь изобразительных излишеств, "как это делается теперь", - нет ни описания окровавленной одежды Иосифа, ни позы или наряда Пентефриевой жены, когда она, "поправляя браслет на левой руке, сказала: "Войди ко мне" и т. п." (30, 162). Особенно возмущают Толстого избыточные детали, связанные с показом "немого языка жестов (например, "поправила браслет на левой руке") недоступного, по его мнению, широким читательским кругам. Живописные излишества теперь должны быть изгнаны из литературного обихода как последний оплот той специфический поэтики, которая сопрягала воедино внутренне обязательное и необходимое - этическую проповедь - с внутренне необязательным и бесцельным - описанием объектов "художественного наблюдения. В новых исторических условиях Толстой стремится совершенствовать самую культуру читательского восприятия, сообщая ей более демократический и ответственный характер. Обогатил или обеднил кризис 80-х гг. искусство Толстого? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. С одной стороны|, радикальной реформы поэтики не получилось. Понемногу реализм Толстого входит в привычные берега, определяемые полярностью проповеди и пластики... С другой - структура сопряжения существенно преобразуется. Словно какое-то позднее целомудрие мешает Толстому с прежней свободой спорить со своим читателем, окликая его по всякому удобному поводу. В рассказе "Хозяин и работник" (1895) лишь финальным словом автор врывается в повествование, примерно так, как это было в рассказе "Три смерти". Завершающий словесный жест автора-проповедника излучает здесь иллюзию не только обращения к читателю, но и завершения рассказа, после которого уместнее молчание и сосредоточенное раздумье. В "Хаджи-Мурате" (1905) авторская беседа с читателем только обрамляет повесть, не входя в самое повествование. Но самое поразительное происходит с романом "Воскресение". Не сразу уясняется тот несомненный факт, что в этом романе, столь насыщенном риторикой и моралистическими генерализациями, автор лишь дважды решается взорвать ткань повествования и прямо обратиться к читателю (это происходит в начале глав 54-й и 59-й первой части). А ведь речь идет о романе, который сам Толстой называл "совокупным письмом", адресованным миру, и признавался что в нем есть "риторические" места, которые "хороши" не меньше, чем "художественные"!5 Очевидно, риторику теперь с большей осторожностью следует отождествлять с авторским голосом; как правило, это голоса Нехлюдова и других героев звучащие внутри повествовательного целого, т. е. одна из модификаций чисто художественной стихии. Принцип ограниченного авторского вмешательства, отработанный в "Трех смертях", становится определяющим, он и сохраняет полярность. Так обстоит дело на одном полюсе сопряжения, восстановленного после экспериментов с монопольным повествованием притчи. Соответственно на другом полюсе происходит восстановление пластики, тоже ограниченное, но решительное. Писателю претит художественный вымысел как таковой. "А вот уже теперь совсем не могу писать беллетристики. Ну, как я буду рассказывать, что шла по Невскому дама в коричневом платье, а она никогда там не шла! Не могу уж этим заниматься, совестно как-то"6. Писательская совестливость распространяется и на диалектику души. По тонкому наблюдению М. Бахтина, "автор как бы торопится от живой душевной эмпирики, которая ему теперь не нужна и противна, поскорее перейти к моральным выводам, к формулам и прямо евангельским текстам"7. Зато прежняя хватка не покидает Толстого в описания природы, народного быта. Возьмем для примера хотя бы начало рассказа "Ягоды" 1905 года (можно взять вместо него любой другой пейзаж): "Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листы. КУСТЫ шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах перекликаются коростели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым дуновением" (41, 450). Чем вызвано это пристальное внимание, жажда войти в любую подробность простой жизни? Может быть, стоит вспомнить, как сформулировал свое восприятие пейзажной пластики Толстого И. Бунин: "Запись совершенно необыкновенная, - по всяческой крепости, по упоению прелестью сил земных" (слова эти относятся к записи 1878 г., которую стоит здесь привести: "Жаркий полдень, тихо, запах сладкий и душистый - зверобой, кашка, - стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на лесных дорожках запах теплицы... Пчела на срубленном лесе обирает по очереди с куртины желтых цветов... Жар на дороге, пыль горячая и деготь"8. Похвала Бунина стоит того, чтобы считаться с ней. Пер-вое, что хочется отметить: толстовское упоение прелестью сил земных в конечном счете связано с верой в стихийную благодать природы. Согласно "Воскресению", грубым нечувствием жизни является привычка людей считать, "что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ, - красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом" (32, 6). Поэтому герой романа, Набатов, не теряющий из виду священную глубину природы, носил в себе "то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую - навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется" (32, 176). Интерес к природе стоит у Толстого в контексте мифо-логических представлений о круговращении и перевоплощении всего сущего. Любая реалия без учета ее вплетенности в мировой круговорот обесценивается в глазах Толстого, превращаясь в докучную подробность "мелочной, пустой стороны жизни". Кому интересно знать, что в июне, например, среди сочной зелени можно встретить пожелтевшие березовые и липовые листы? Та же деталь, взятая как момент вечного и таинственного природного обряда, - совсем иное дело, она достойна тщательной фиксации. С 1856 г. Толстой ведет записные книжки, в которых - целые россыпи пейзажных зарисовок, подобных тем, что поразили Бунина. Перечитывая их, трудно отделаться от впечатления, что здесь творится культ природы в точном смысле этого слова от латинского "колере" - вращать. Писатель не устает "вращаться" вокруг святых реальностей, создавая культуру пластических описаний. Без нее столь настойчивый интерес к одному и тому же неизбежно сменился бы перенасыщением, ведущим к потребности новизны и взбадрива-ния уставших нервов, приводя, в конце концов, к пределу допустимого - вычурности и условности, совершенно немыслимых у Толстого. Культура пластического видения как эстетический кор-релят нравственной проповеди - такова формула важнейших творческих интересов Толстого. Нет сомнения, что интересы эти идут изнутри. Самое время теперь посмотреть, откуда. Ключевой творческий жест Толстого связан с экстазами, неоднократно описанными на страницах его романов под именем "воскресений" и "просветлений". Один из ранних тому примеров - повесть "Казаки". Оленин (он лежит, отдыхая в лесу) "ни о чем не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься... Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека.., около меня, пролетая между листьями, которые им кажутся огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам... Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. "Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!.. "И ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин. член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень..." (6, 77). Описываемое здесь состояние - одно из тех, которые сделали Толстого художником и мыслителем. Это - творческий экстаз, подъем всего духовного существа, проходящий под знаком - выйди из себя, из своей эгоистической самости! О том, что жест освободительного любовного единения с природой у Толстого возникает так же непроизвольно, как и у его героя, свидетельствуют многочисленные признания, в частности, дневниковая запись 12 июля 1851 г.: "Вчера я почти всю ночь не спал... Сладость чувства, которое испытал я.., передать невозможно... Мне хотелось слиться с су-ществом всеобъемлющим... Как страшно было мне смотреть на всю мелочную - порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня... Я не чувствовал плоти, я был - один дух" (46, 62). Через полстолетия герой рассказа "После бала" скажет почти теми же словами: "Я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее им и способное на одно добро" (34, 119). Духовная подлинность этого опыта неоспорима: из него черпает Толстой свою веру в стихийную благостность природы и стимулы для учения о непротивлении всему естественному, не в лоне насильственной цивилизации порожденному. Но экстатическое состояние не может продолжаться бес-конечно. Вспыхнув и навсегда опалив душу, гераклитов огонь бытия затухает. И понятно горестное восклицание Феди Протасова, героя "Живого трупа": "И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжить его" (34, 24). Стремление раствориться в творческом восторге неизменно включает в себя у Толстого и страх охлаждения огня, обостренное чувство конца, требующее какого-то ответного жеста в том особенном смысле, который у Толстого выражается словами "самосовершенствование", "Жизнь для других", "самоотвержение", "противление мелочной среде". Вот как пережито Толстым это состояние 12 июля 1851 г.: "Но нет! Плотская - мелочная сторона опять взяла свое, не прошло и часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни... Вечное блаженство здесь невозможно" (46, 63). Здесь, т. е. в отраженной, поверхностной среде, требующей духовного отпора. Жест любви и непротивления природе, идущий из глубины сознания и подсознания натолкнувшись на внешнее препятствие, должен претвориться в жест противления насилующим обстоятельствам. Легко усмотреть ту же закономерность и в душевном состоянии Оленина, как оно описано в повести: "Все вдруг переменилось... Небо заволокло тучами... Он стал трусить... Пришли в голову обреки, убийства". Перемена декораций возвестила конец пережитому состоянию, которое отличается от нового как свет и радость от тусклой прозы будней. "Истинная жизнь" в эмперической плоскости словно скрыта под покровом серости и суеты. Мы не придумали это сопоставление: оно неизменно отличает описание мира у Толстого. Герой повести "Юность" (в отрывке, не вошедшем в окончательный текст) говорит, что истинность своих творческих порывов он проверял по тому неожиданному, счастливому и блестящему свету, который вдруг разливала на всю жизнь вновь открытая истина" (2, 344). Страницы Толстого залиты светом озарений и просветлений, вызывая ощущение не только "настоящей жизни", но и "сияющей вселенной". Обилие света делает предметы предельно пластическими - увиденными со стороны во всей их рельефности и четкости, а временами - словно по законам аккомодации: укрупненно и выделенно без потери общей перспективы. Так, окружающие Оленина листья, оставаясь равными себе, превращаются в огромные острова, между которыми пролетают полчища комаров. Сила озарения прямо связана с силой мысли, посетившей человека. "С особенной ясностью" в голову способны "приходить" не всякие, а лишь некоторые основные идеи, своей всеобщностью удостоверяющие свое природное происхождение. Озарить мир и сделать его странным, как в первоувидении, могут идеи, обладающие достоинством общеприемлемости и общеобязательности и выходящие за рамки индивидуального сознания. Если они посещают человека в качестве его органических открытий-озарений, они способны безраздельно владеть его волей и отличаются чрезвычайной устойчивостью. Какими же органическими идеями располагал Толстой? Вспоминая свой кавказский период, он писал: "Я был одинок и несчастлив... Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать... Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для других, для того, чтобы быть счастливым вечно" (60, 293). Это мало отличается от открытий Оленина, узнавшего, что, возможно, он "рамка, в которой вставилась часть единого божества" (6, 77), что непротивление, добровольный жест отдачи себя в распоряжение священных стихий есть синоним счастья и любви и что, когда "пустая сторона жизни" отнимает счастье, нужно противиться ей самопожертвованием: "И вдруг ему как бы открылся новый свет. "Счастие - вот что, - оказал он сам себе, - счастие в ТОМ, чтобы жить для других... Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!" Фундаментальные истины, открытые Толстым и его героями, становятся как бы аксиомами их жизненного опыта и порождают два жизненных жеста: непротивление природе в любви и противление обществу в самоотвержении и моралистическом бунте. Вообще оба этих ключевых жеста выясняют себя, поверяют себя и утверждают себя, соотносясь со всем, что сказано и сделано Толстым. Они важнейшие формирующие силы его творчества, поскольку все в этом творчестве так или иначе охвачено проблемой воскресения и моралистического бунта. Достаточно сослаться на один выразительный пример. Разница между Пьером Безуховым до и после плена состояла в том, что "прежде он много говорил, горячился, когда творил и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои задушевные тайны" (12, 206). Надо полагать, что жизненный опыт своего героя автор недвусмысленно мерит принципом непротивления, сформулированным еще в начале дневника молодости: "Оставь действовать разум, он укажет тебе твое назначение... Для этого образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с (источником всего, а не с частью, с обществом людей" (46, 4). Все, что соответствует жесту непротивления природе (и противления цивилизации), принадлежит к органике толстовского творчества. Среди трех литературных категорий: проповеди, описания и повествования - первые две наиболее органичны для Толстого, для его мечты и видения жизни, для воспоминаний о "сияющей вселенной", увиденной в творческом экстазе, и патетического призыва вернуться к ней. 1. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 13, с. 54. Далее ссылки на это издание в тексте..Вернуться к тексту 2. Гудзий Н К. Лев Толстой. М , 1960, с. 175.Вернуться к тексту 3. Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Петербург - Берлин 1922, с. 142. Вернуться к тексту 4. Гершензон М. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М , 1919, с. 67.Вернуться к тексту 5. Летописи Гос. Лит. музея. Кн- 12. Л. Н. Толстой. М., 1949, с. 43.Вернуться к тексту 6. Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 44.Вернуться к тексту 7. Бахтин М. Предисловие- - В кн.: Л. Н. Толстой. Поли. собр. ХУДО? произв., т. 13. М.-Л., 1929, с. 14.Вернуться к тексту 8. Бунин И- А. Собр. соч. в 9 томах, т. 9. М, 1967, с. 118.Вернуться к тексту |